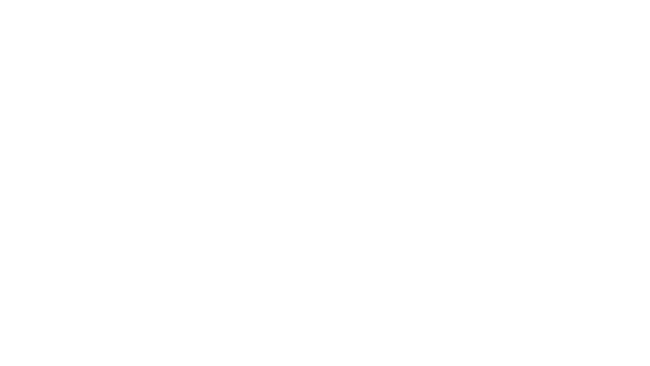
Надежда Григорьева берет интервью у Александра Эткинда
В книге "Эрос невозможного", вышедшей в 1993 году, Александр Эткинд писал, что после раскола в психоаналитическом движении Зигмунд Фрейд, отвергающий одного за другим своих учеников, становится все более зависимым от череды учениц, которых насчитывают десятки. Похожая ситуация возникает в современном интеллектуальном мире, когда все больше женщин занимают позиции, доселе оккупированные мужчинами. Женщина-писатель, женщина-куратор, женщина-ученый... Мужчины перессорились, а особы слабого пола осуществляют политику культуры — и все не какие-нибудь второсортные особы, а высокого класса. Я попыталась поговорить на эту тему с Александром Эткиндом, который в своих трудах глубоко анализировал жизнь и творчество таких женщин, как Сабина Шпильрейн, Ханна Арендт, Лу Андреас-Саломе, Эйн Рэнд, Зинаида Волкова. Неожиданно я наткнулась на сопротивление, вынудившее меня оставить первоначально занятые позиции и несколько сменить тему.
НГ: Что такое женщина-мыслитель?
АЭ: На это не так просто ответить. Печальный факт: мы ценим знания и рассуждения независимо от пола, но когда интересно рассуждает женщина, это обращает на себя внимание. Я излагаю общие места феминистского недовольства, хотя сам я ни в коей мере не являюсь женщиной-мыслителем.
НГ: Но ведь существует отличие, допустим, Сабины Шпильрейн как мыслителя от Фрейда или Юнга, ее учителей?
АЭ: Идею влечения к смерти, выдвинутую Сабиной Шпильрейн, впоследствии подхватил Фрейд, и в его ссылке на ее работу нет ничего такого, что бы отмечало гендерный подход к делу. Но конечно, когда занимаешься женщиной-мыслителем, чувствуешь некоторое приятное возбуждение.
НГ: А что чувствует мыслящая женщина?
АЭ: Что бы она ни чувствовала, но когда она читает других женщин-мыслителей, я думаю, она сопереживает. Интересно спрашивать не автора о своих героинях, а читателя: что он чувствует, когда читает о женщинах. Мне кажется, эти чувства более интенсивны, чем чувства читающего о мужчинах.
НГ: Кем служили женщины-мыслители в истории: козлами отпущения или палачами; вдохновляющими мужчин или заражаемыми мужской мыслью?
АЭ: Вы меня превращаете в женоведа. Это для протокола. Мне все равно, мужчина или женщина Ханна Арендт. В некоторых случаях это было важно: когда я, например, распутывал сложную любовную жизнь Сабины Шпильрейн. Но с другой стороны, у любого человека любовная жизнь сложная, особенно когда начинаешь рассматривать ее под микроскопом. Сложной любовную жизнь делаем мы, исследователи.
НГ: В наши дни женщина-мыслитель деградирует или наоборот? Скажем, Джудит Батлер — это более развитый экземпляр по сравнению с Сабиной Шпильрейн?
АЭ: Случаи совершенно разные. Джудит Батлер делает свою интеллектуальную карьеру тем, что она женщина, а Сабина Шпильрейн существовала в мужском обществе и писала в журналах, где 98% статей были мужскими. Ее публиковали вопреки тому, что она женщина, соответственно, она играла по мужским правилам. У других мыслительниц бывало, конечно, иначе. Например, у Лу Андреас-Саломе, которая изобрела европейский феминизм. Она была невестой и ученицей Ницше, поэтому перед ее глазами маячил образ сверхженщины.
НГ: Зачем мужчине заниматься женской мыслью? Может быть, это легче продать?
АЭ: Легче продать, если этим занимается женщина. Мужчину будут подозревать в каких-то странных интересах. Я искренне не понимаю, почему феминистской теорией и практикой женского письма занимаются исключительно женщины. Логической необходимости такой нет. Вообще мужчины занимаются разными явлениями природы: метеоритами, танками... У меня никогда не было мысли, что я занимаюсь женским мышлением...
(Пауза.)
НГ: Фрейд бы это назвал сопротивлением.
АЭ: Кстати, Фрейд писал...
НГ: Вы не могли бы дать ряд ассоциаций к слову "женщина"?
АЭ: К слову Фрейд.
НГ: Опять сопротивление.
АЭ: Подавляющее большинство, типа 80%, пациентов Фрейда были женщины. Соответственно, его клинические случаи чаще всего женские. В наше же время никто так сурово не критикует Фрейда, как феминистки. Фрейд пришел бы в ужас от мысли, что есть мышление женское, а есть мужское. То, что сознание и бессознательное различаются по гендеру, — совершенно антипсихоаналитическая мысль.
НГ: И вы тоже поддерживаете Фрейда?
АЭ: Я буду сопротивляться. По гендеру уж точно нет различий, потому что гендер — это социальная конструкция по определению. В принципе ничто не мешает мужчине иметь женский гендер и наоборот...
НГ: И биологически никаких различий нет...
АЭ: В биологических различиях я все понимаю. Я бы скорее сомневался, что они есть в сфере высокого мышления. Философия или психоанализ, раз уж на то пошло, развиваются как корпус знания, в котором участвуют люди разных национальностей, разных полов и разных классов. Происходит это благодаря тому, что люди могут обмениваться своими идеями в публичной сфере.
НГ: Не считаете ли вы, что женщина обычно выступает в роли соблазнительницы и провокатора, в отличие от мужчины, который традиционно играет существо авторитарное, несущее свое, не обращая внимания на партнера? Провокатор зависит от партнера.
АЭ: Но на что провоцирует мужчин Джудит Батлер? На смену пола? Провокативность — это функция меньшинства: национального, интеллектуального или гендерного. Пока женщин-мыслителей единицы, и они уникальны, они провоцируют на восхищение, поклонение, подражание. Но когда их много и они становятся шумны и назойливы, они ни на что не провоцируют, кроме как на сопротивление, самоизоляцию. Женское движение вызывает движение мужское: мужчины, не гомосексуалисты, образуют мужские клубы, начинают отстаивать свои права мужчин. Эта динамика специфична не для гендера, а для любых социальных отношений большинства/меньшинства. Сегодня мы обсуждали очередную диссертацию* феминистки, которая исследовала советскую госстатистику по десятилетиям: в 20-х годах в советской науке было 10% женщин, а потом с каждым десятилетием эта доля росла и доросла до более 50% в 70-х годах. Но все эти женщины оставались на позициях мэнээсов. Среди докторов наук и руководителей лабораторий женщин было очень мало. В диссертации делаются из этого феминистские выводы: типа того, что женщины подавлялись. Я же утверждаю, что это не так, наоборот, женщины имели приоритет, они форсировали новые сферы. Мэнээсом быть было вполне приятно: зарплата, стабильность. Статус мэнээса был выше, чем статус рабочего на заводе.
НГ: Как вы относитесь к рецепции ваших книг в России и на Западе?
АЭ: Мужской вопрос в лоб.
НГ: Вот и излейте, что накопилось.
АЭ: Мне нечего изливать: я очень позитивно отношусь к рецепции моих книг. Их нигде нельзя достать. Я достаю собственные книги по блату. С помощью Александра Горнона, который знает все ходы и выходы, я с большим трудом нашел пачку "Хлыста". "Эрос невозможного", который был издан двумя массовыми тиражами общим количеством 30 тысяч экземпляров, тоже найти невозможно. Тираж, который казался нормальным тогда, в 93-м году, сейчас кажется фантастическим. И это соотношение, что интересно, следует курсу доллара. Надо индексировать эти цифры. Секрет успешного автора в том, чтобы уважать своих читателей.
НГ: Какая, по вашему мнению, зависимость между мышлением и деньгами?
АЭ: Очень простая. Мне кажется, что все, что я делаю, я делаю потому, что мне это интересно. Но с другой стороны, если бы мне за это не платили вообще, то я, наверное, все-таки не стал бы этого делать — значит, зависимость есть. Если бы я занимался чем-нибудь другим, то мне бы, наверное, платили в десять раз больше — значит, зависимость не полная.
НГ: Я имею в виду другую зависимость: и мышление, и деньги являются симулякрами.
АЭ: А я не считаю, что деньги — это симулякр. Вообще, мало что симулякр. Для меня симулякр — это поведение. Поскольку я все больше становлюсь критиком Бодрийяра, то у меня здесь своя позиция. Я уверен, что мы живем в развивающемся обществе, и то, что в нем происходит, — реально. Абсолютно нелепа идея того, что современная культура, современная экономика, деньги, мобильные телефоны, пиво, которое мы сейчас пьем, — симулякр. Это радикально нигилистическая идея. И даже наше интервью сейчас — это не симулякр, как и деньги, которые вам за него заплатят. Вы производите сейчас некоторый продукт.
НГ: Можно оценивать и деньги как реальный продукт — бумажка, в которую что-то вшито, металлическая нить, чтобы нельзя было ее подделать.
АЭ: Да, долларовая банкнота стоит какие-то центы. Но деньги есть эквивалент. Мы занимаемся литературным трудом, пишем статьи, читаем лекции, потом получаем деньги, на которые можем купить пиво, проститутку или квартиру. Но деньги в этом процессе наименее значимы — с их помощью мы обмениваем идеи на какие-то ценности. Ни деньги, ни идеи не являются симулякрами. Деньги, не являясь симулякрами, определяют курс обмена.
НГ: Движется ли человечество к обществу без денег?
АЭ: Я в это не верю. Мы знаем, кто в это верил. Деньги — полезное изобретение, оно создает курс обмена.
НГ: Но видоизмениться-то они могут?
АЭ: На мой век они останутся такими, какие они есть. Может быть, в них будет что-то вшито, какая-нибудь новая нить. Может, появятся карточки, которые не надо никуда вставлять, а достаточно помахать ими в воздухе.
НГ: С чем вы связываете начало денег?
АЭ: Пока денег не было, все решала власть. Деньги связаны с диверсификацией властей: когда есть очень много власти и ее надо обменивать. Деньги — это овеществленный плюрализм. Если у вас есть один господин, который говорит, что делать, то никаких денег не надо. Если господ много и работников тоже много, то появляется необходимость в деньгах.
НГ: А вам не кажется, что современное общество помолодело? Европейский университет — лучшее, что может предложить Петербург в сфере высшего образования, — обслуживается молодыми учеными.
АЭ: Это так. Университет, действительно, лучший, но не типический. В других университетах власть, бывает, не меняется в течение 20—25 лет. На моем факультете, наоборот, никто не хочет быть деканом, поэтому декан меняется каждый год, по расписанию, после длительной торговли между сотрудниками.
НГ: График дежурств?
АЭ: Да, это очень важный образ власти. Власть не должна давать никаких дивидендов — это обременительная обязанность. Власть, действительно, нужна: кто-то должен ее исполнять, но ничего не получать, кроме дополнительного труда и ответственности оттого, что кто-то может тебе сказать, что вот, у нас так плохо, потому что в прошлом году ты исполнял власть. Ничего другого власть не приносит. Там, где есть такое отношение, там все идет нормально, а в советской традиции все наоборот, и эта советская культура работы, к сожалению, очень жива. К счастью, эти люди не контролируют мои источники существования, а наоборот, я могу влиять на них, что я и делаю иногда, включаясь в какие-то акции, направленные на смену поколений. Иногда это получается, иногда нет. В силу совершенно другой конфигурации власти в русских государственных структурах, позиция декана позволяет получать большие дивиденды, невзирая на маленькую официальную зарплату, просто потому, что этот человек является деканом и крутит дела. Деканы и прочие мелкие руководители потому держатся за свои позиции, что благодаря взяткам, откатам и махинациям позиция власти оказывается чрезвычайно выгодной. Все происходит не в сфере идей, а в сфере эквивалентного обмена. Есть бюджет, из которого делается, допустим, ремонт туалета, этим распоряжается декан, он получает откат, и полный вперед. Все это так же прозрачно, как отчетность Мирового Банка. Меня изумляет, что столько людей соглашается работать под началом такой власти, ходить в вонючие туалеты, получать нищенскую зарплату. Либо бунтуйте, либо уходите: без вас декан не проживет.
© "Звезда", № 5, 2001
В книге "Эрос невозможного", вышедшей в 1993 году, Александр Эткинд писал, что после раскола в психоаналитическом движении Зигмунд Фрейд, отвергающий одного за другим своих учеников, становится все более зависимым от череды учениц, которых насчитывают десятки. Похожая ситуация возникает в современном интеллектуальном мире, когда все больше женщин занимают позиции, доселе оккупированные мужчинами. Женщина-писатель, женщина-куратор, женщина-ученый... Мужчины перессорились, а особы слабого пола осуществляют политику культуры — и все не какие-нибудь второсортные особы, а высокого класса. Я попыталась поговорить на эту тему с Александром Эткиндом, который в своих трудах глубоко анализировал жизнь и творчество таких женщин, как Сабина Шпильрейн, Ханна Арендт, Лу Андреас-Саломе, Эйн Рэнд, Зинаида Волкова. Неожиданно я наткнулась на сопротивление, вынудившее меня оставить первоначально занятые позиции и несколько сменить тему.
НГ: Что такое женщина-мыслитель?
АЭ: На это не так просто ответить. Печальный факт: мы ценим знания и рассуждения независимо от пола, но когда интересно рассуждает женщина, это обращает на себя внимание. Я излагаю общие места феминистского недовольства, хотя сам я ни в коей мере не являюсь женщиной-мыслителем.
НГ: Но ведь существует отличие, допустим, Сабины Шпильрейн как мыслителя от Фрейда или Юнга, ее учителей?
АЭ: Идею влечения к смерти, выдвинутую Сабиной Шпильрейн, впоследствии подхватил Фрейд, и в его ссылке на ее работу нет ничего такого, что бы отмечало гендерный подход к делу. Но конечно, когда занимаешься женщиной-мыслителем, чувствуешь некоторое приятное возбуждение.
НГ: А что чувствует мыслящая женщина?
АЭ: Что бы она ни чувствовала, но когда она читает других женщин-мыслителей, я думаю, она сопереживает. Интересно спрашивать не автора о своих героинях, а читателя: что он чувствует, когда читает о женщинах. Мне кажется, эти чувства более интенсивны, чем чувства читающего о мужчинах.
НГ: Кем служили женщины-мыслители в истории: козлами отпущения или палачами; вдохновляющими мужчин или заражаемыми мужской мыслью?
АЭ: Вы меня превращаете в женоведа. Это для протокола. Мне все равно, мужчина или женщина Ханна Арендт. В некоторых случаях это было важно: когда я, например, распутывал сложную любовную жизнь Сабины Шпильрейн. Но с другой стороны, у любого человека любовная жизнь сложная, особенно когда начинаешь рассматривать ее под микроскопом. Сложной любовную жизнь делаем мы, исследователи.
НГ: В наши дни женщина-мыслитель деградирует или наоборот? Скажем, Джудит Батлер — это более развитый экземпляр по сравнению с Сабиной Шпильрейн?
АЭ: Случаи совершенно разные. Джудит Батлер делает свою интеллектуальную карьеру тем, что она женщина, а Сабина Шпильрейн существовала в мужском обществе и писала в журналах, где 98% статей были мужскими. Ее публиковали вопреки тому, что она женщина, соответственно, она играла по мужским правилам. У других мыслительниц бывало, конечно, иначе. Например, у Лу Андреас-Саломе, которая изобрела европейский феминизм. Она была невестой и ученицей Ницше, поэтому перед ее глазами маячил образ сверхженщины.
НГ: Зачем мужчине заниматься женской мыслью? Может быть, это легче продать?
АЭ: Легче продать, если этим занимается женщина. Мужчину будут подозревать в каких-то странных интересах. Я искренне не понимаю, почему феминистской теорией и практикой женского письма занимаются исключительно женщины. Логической необходимости такой нет. Вообще мужчины занимаются разными явлениями природы: метеоритами, танками... У меня никогда не было мысли, что я занимаюсь женским мышлением...
(Пауза.)
НГ: Фрейд бы это назвал сопротивлением.
АЭ: Кстати, Фрейд писал...
НГ: Вы не могли бы дать ряд ассоциаций к слову "женщина"?
АЭ: К слову Фрейд.
НГ: Опять сопротивление.
АЭ: Подавляющее большинство, типа 80%, пациентов Фрейда были женщины. Соответственно, его клинические случаи чаще всего женские. В наше же время никто так сурово не критикует Фрейда, как феминистки. Фрейд пришел бы в ужас от мысли, что есть мышление женское, а есть мужское. То, что сознание и бессознательное различаются по гендеру, — совершенно антипсихоаналитическая мысль.
НГ: И вы тоже поддерживаете Фрейда?
АЭ: Я буду сопротивляться. По гендеру уж точно нет различий, потому что гендер — это социальная конструкция по определению. В принципе ничто не мешает мужчине иметь женский гендер и наоборот...
НГ: И биологически никаких различий нет...
АЭ: В биологических различиях я все понимаю. Я бы скорее сомневался, что они есть в сфере высокого мышления. Философия или психоанализ, раз уж на то пошло, развиваются как корпус знания, в котором участвуют люди разных национальностей, разных полов и разных классов. Происходит это благодаря тому, что люди могут обмениваться своими идеями в публичной сфере.
НГ: Не считаете ли вы, что женщина обычно выступает в роли соблазнительницы и провокатора, в отличие от мужчины, который традиционно играет существо авторитарное, несущее свое, не обращая внимания на партнера? Провокатор зависит от партнера.
АЭ: Но на что провоцирует мужчин Джудит Батлер? На смену пола? Провокативность — это функция меньшинства: национального, интеллектуального или гендерного. Пока женщин-мыслителей единицы, и они уникальны, они провоцируют на восхищение, поклонение, подражание. Но когда их много и они становятся шумны и назойливы, они ни на что не провоцируют, кроме как на сопротивление, самоизоляцию. Женское движение вызывает движение мужское: мужчины, не гомосексуалисты, образуют мужские клубы, начинают отстаивать свои права мужчин. Эта динамика специфична не для гендера, а для любых социальных отношений большинства/меньшинства. Сегодня мы обсуждали очередную диссертацию* феминистки, которая исследовала советскую госстатистику по десятилетиям: в 20-х годах в советской науке было 10% женщин, а потом с каждым десятилетием эта доля росла и доросла до более 50% в 70-х годах. Но все эти женщины оставались на позициях мэнээсов. Среди докторов наук и руководителей лабораторий женщин было очень мало. В диссертации делаются из этого феминистские выводы: типа того, что женщины подавлялись. Я же утверждаю, что это не так, наоборот, женщины имели приоритет, они форсировали новые сферы. Мэнээсом быть было вполне приятно: зарплата, стабильность. Статус мэнээса был выше, чем статус рабочего на заводе.
НГ: Как вы относитесь к рецепции ваших книг в России и на Западе?
АЭ: Мужской вопрос в лоб.
НГ: Вот и излейте, что накопилось.
АЭ: Мне нечего изливать: я очень позитивно отношусь к рецепции моих книг. Их нигде нельзя достать. Я достаю собственные книги по блату. С помощью Александра Горнона, который знает все ходы и выходы, я с большим трудом нашел пачку "Хлыста". "Эрос невозможного", который был издан двумя массовыми тиражами общим количеством 30 тысяч экземпляров, тоже найти невозможно. Тираж, который казался нормальным тогда, в 93-м году, сейчас кажется фантастическим. И это соотношение, что интересно, следует курсу доллара. Надо индексировать эти цифры. Секрет успешного автора в том, чтобы уважать своих читателей.
НГ: Какая, по вашему мнению, зависимость между мышлением и деньгами?
АЭ: Очень простая. Мне кажется, что все, что я делаю, я делаю потому, что мне это интересно. Но с другой стороны, если бы мне за это не платили вообще, то я, наверное, все-таки не стал бы этого делать — значит, зависимость есть. Если бы я занимался чем-нибудь другим, то мне бы, наверное, платили в десять раз больше — значит, зависимость не полная.
НГ: Я имею в виду другую зависимость: и мышление, и деньги являются симулякрами.
АЭ: А я не считаю, что деньги — это симулякр. Вообще, мало что симулякр. Для меня симулякр — это поведение. Поскольку я все больше становлюсь критиком Бодрийяра, то у меня здесь своя позиция. Я уверен, что мы живем в развивающемся обществе, и то, что в нем происходит, — реально. Абсолютно нелепа идея того, что современная культура, современная экономика, деньги, мобильные телефоны, пиво, которое мы сейчас пьем, — симулякр. Это радикально нигилистическая идея. И даже наше интервью сейчас — это не симулякр, как и деньги, которые вам за него заплатят. Вы производите сейчас некоторый продукт.
НГ: Можно оценивать и деньги как реальный продукт — бумажка, в которую что-то вшито, металлическая нить, чтобы нельзя было ее подделать.
АЭ: Да, долларовая банкнота стоит какие-то центы. Но деньги есть эквивалент. Мы занимаемся литературным трудом, пишем статьи, читаем лекции, потом получаем деньги, на которые можем купить пиво, проститутку или квартиру. Но деньги в этом процессе наименее значимы — с их помощью мы обмениваем идеи на какие-то ценности. Ни деньги, ни идеи не являются симулякрами. Деньги, не являясь симулякрами, определяют курс обмена.
НГ: Движется ли человечество к обществу без денег?
АЭ: Я в это не верю. Мы знаем, кто в это верил. Деньги — полезное изобретение, оно создает курс обмена.
НГ: Но видоизмениться-то они могут?
АЭ: На мой век они останутся такими, какие они есть. Может быть, в них будет что-то вшито, какая-нибудь новая нить. Может, появятся карточки, которые не надо никуда вставлять, а достаточно помахать ими в воздухе.
НГ: С чем вы связываете начало денег?
АЭ: Пока денег не было, все решала власть. Деньги связаны с диверсификацией властей: когда есть очень много власти и ее надо обменивать. Деньги — это овеществленный плюрализм. Если у вас есть один господин, который говорит, что делать, то никаких денег не надо. Если господ много и работников тоже много, то появляется необходимость в деньгах.
НГ: А вам не кажется, что современное общество помолодело? Европейский университет — лучшее, что может предложить Петербург в сфере высшего образования, — обслуживается молодыми учеными.
АЭ: Это так. Университет, действительно, лучший, но не типический. В других университетах власть, бывает, не меняется в течение 20—25 лет. На моем факультете, наоборот, никто не хочет быть деканом, поэтому декан меняется каждый год, по расписанию, после длительной торговли между сотрудниками.
НГ: График дежурств?
АЭ: Да, это очень важный образ власти. Власть не должна давать никаких дивидендов — это обременительная обязанность. Власть, действительно, нужна: кто-то должен ее исполнять, но ничего не получать, кроме дополнительного труда и ответственности оттого, что кто-то может тебе сказать, что вот, у нас так плохо, потому что в прошлом году ты исполнял власть. Ничего другого власть не приносит. Там, где есть такое отношение, там все идет нормально, а в советской традиции все наоборот, и эта советская культура работы, к сожалению, очень жива. К счастью, эти люди не контролируют мои источники существования, а наоборот, я могу влиять на них, что я и делаю иногда, включаясь в какие-то акции, направленные на смену поколений. Иногда это получается, иногда нет. В силу совершенно другой конфигурации власти в русских государственных структурах, позиция декана позволяет получать большие дивиденды, невзирая на маленькую официальную зарплату, просто потому, что этот человек является деканом и крутит дела. Деканы и прочие мелкие руководители потому держатся за свои позиции, что благодаря взяткам, откатам и махинациям позиция власти оказывается чрезвычайно выгодной. Все происходит не в сфере идей, а в сфере эквивалентного обмена. Есть бюджет, из которого делается, допустим, ремонт туалета, этим распоряжается декан, он получает откат, и полный вперед. Все это так же прозрачно, как отчетность Мирового Банка. Меня изумляет, что столько людей соглашается работать под началом такой власти, ходить в вонючие туалеты, получать нищенскую зарплату. Либо бунтуйте, либо уходите: без вас декан не проживет.
© "Звезда", № 5, 2001
